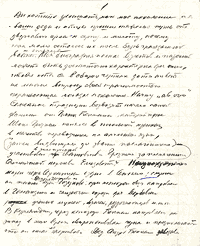Исторический обзор одного из последних могиканВы хотите услышать, как мое поколение, т.е. ваши деды и отцы прошли тяжелый путь от двуглавого орла к серпу и молоту, почему так мало осталось их после бурь гражданской и отечественной войны? Моя биография, полная взлетов и падений, может быть, достаточно характерна для того, чтобы хотя бы в общих чертах дать ответ на многие вопросы, своей трагичностью поражающие молодое поколение. Начну ab ovo [1]. Семейные традиции возводят начало нашей фамилии от Романа Бекмана, который при Иване Грозном нанялся в посольский приказ в качестве переводчика на английский язык, участвовал в числе посланцев при сватовстве Грозного за племянницу английской королевы Елизаветы, затем выдвинулся до звания посланника. Неоднократно, морем, через Архангельск ездил в Англию; ездил он также при Федоре Иоанновиче и Годунове, при котором был направлен в Голландию и ганзейские города для вербовки ученых мужей, врачей, рудознатцев и т.п. В Курляндии [2], через которую Бекман направлялся на запад, в это время свирепствовала чума и предполагается, что он стал ее жертвой.
В 1902 году отец скоропостижно скончался. Было ему всего 42 года. В 1903 году мы переехали в Петербург, где моя тетка, старшая сестра отца, Екатерина Андреевна Бекман, бывшая замужем за инженером-путейцем, но бездетная, приняла часть забот о нашей семье на себя. Жили мы на Большом проспекте Васильевского острова, в доме, населенном множеством морских семей. Неудачи в Порт-Артуре и вообще во всей русско-японской компании были основной темой в этих кругах. Но все эти события невольно наводили и на другие мысли: для многих стало ясно, что только революция может спасти Россию. В середине 1904 года к нам приехал незнакомый мне мужчина, проживший у нас некоторое время. Как потом мне сказали, это был перешедший на нелегальное положение революционера муж младшей сестры моего отца. Я тогда учился в А-классе (первом приготовительном) Екатерининской гимназии и многое уже понимал из того, что говорилось при мне. Помню и страшные потрясения, которые нанесла Цусима многим морским семьям. Погибли отцы, братья и сыновья. На броненосце Ослябя погиб жених моей старшей сестры [8] и наша семья тоже погрузилась в траур, а гнев и возмущение были всеобщими – стало ясным, что спасти Россию может только революция, но что такое "революция" я себе еще не представлял. Прогремел только первый раскат революционной грозы.
Как-то в 1913 году в гимназии произошел конфликт между преподавателем истории и нашим классом. В знак протеста мы устроили шествие, которое возглавил я, неся укрепленный на указке в виде флага широкий красный пояс от гимнастического костюма. Я был тут же вызван к классному наставнику, который в течение часа читал мне нотацию на всем серьезе, однако директору гимназии об этом происшествии не донес. Выводы его длинной речи сводились к тому, что такие "выходки" никакого смысла не имеют. Впрочем, жизнь в Царском Селе учила осторожности – город был заполнен шпиками охранки, которых мы называли "нюхальщиками". Своей внешностью они маскировались либо под разгуливающих отставных офицеров или буржуа на отдыхе, либо под мастеровых, не спеша идущих по своим делам. Выдавали их быстрые, но цепкие взгляды, бросаемые по сторонам. В мае 1914 года, надев студенческие фуражки, мы отпраздновали окончание учебы в ресторане вокзала в Павловске и, пользуясь белой ночью, решили возвращаться в Царское Село пешком через парк. Когда мы уже подходили к Царскому Селу, нас нагнал экипаж, в котором ехал офицер 1-го гвардейского полка в компании с общеизвестной девицей легкого поведения из Царского Села по прозвищу "Штукатурка". Кто-то из нашей компании достаточно громко сказал: "А Штукатурка на рысаках!" Экипаж остановился, офицер соскочил с него и, держа в руках револьвер, вызывающим тоном обратился к нашей группе: "Кто позволил себе оскорбить даму?" Тут началось что-то невообразимое, по адресу офицера посыпались весьма нелестные эпитеты и в результате один из нас заявил офицеру, что вызывает его на дуэль – сейчас же. Пока происходила перебранка, незаметно к нашей группе подъехал какой-то велосипедист и когда зашел разговор о дуэли, он, подойдя к нашему товарищу, предложил задешево купить у него револьвер! Мы, конечно, сразу поняли, что перед нами провокатор из охранки и набросились на него, но он поспешил скрыться на своем велосипеде. Гвардейский офицер тоже понял, что его бравада может плохо кончиться. Инцидент был ликвидирован мирным путем. Так действительность с первых шагов нашей самостоятельной жизни учила нас познавать методику самодержавия. В июле грянула война: началась первая попытка германского империализма расширить свои границы за счет России. Пошла мобилизация. Нужно было решать, что делать: я призыву, как единственный сын, не подлежал. Утверждение так называемой малой судостроительной программы, по которой для Балтийского флота предназначалось 4 линейных крейсера, 4 минных, 4 легких крейсера и 36 эсминцев [10], давно уже занимало мои мысли, а тут в газете появилось объявление, что открывается прием в отдельные гардемаринские классы. Мечты о плаваниях в морях и океанах мира кружили голову. Я подал заявление и, благополучно пройдя конкурс и медосмотр, был принят. Началась усиленная учеба, строящийся флот требовал новых кадров и пополнений. Если преподавательский состав в целом был хороший, то строевое начальство, за исключением начальника ОГК контр-адмирала. Фролова С.И. и еще трех-четырех офицеров, было явно мало пригодно для воспитания будущих командиров. Особенной ненавистью гардемарин пользовался ротный командир Поздеев, списанный с флота (будучи командиром п/л пошел на погружение с открытыми люками; лодку спасло только присутствие духа команды). Особенно нас возмущали в Поздееве грубость и ядовитое преследование Ильина (Раскольникова). Во время строевых учений беспрестанно из его уст слышалось: "Ильин, штык выше! Не человек, а калека!" и т.п. И мы, конечно, догадывались, что это было вызвано особой причиной, о которой скажу после. Остальные офицеры большим авторитетом также не пользовались: здесь причина лежала также и в том чувстве антагонизма, которое часть офицеров – питомцы Морского Корпуса – питала к юнкерам флота и гардемаринам ОГК, ибо "разночинцы" вносили якобы дух разложения в ряды офицерства, вышедшие из стен Морского Корпуса. Высшее начальство ввело для гардемарин ОГК погон с черным просветом и накладным золотым якорем, в то время как в Корпусе гардемарин носил погоны с белым просветом и вензелем, составленным из якоря и буквы "А" – в честь шефа Морского Корпуса – царского наследника Алексея. Так получилось неофициальное звание – "черные" гардемарины, куда вкладывался помимо цвета погон еще и тайный смысл – "черная кость". Но это не трогало, т.к. служба своему народу требовала знаний, а не наличия барских навыков и белой кости. В годы учебы с 1914 по 1917 год мы совершили учебные плавания на Камчатку, в Корею и Японию, на учебном судне Орёл, который был оборудован под вспомогательный крейсер из рефрижератора-фруктовоза Добровольного Флота. Практические занятия морским делом и навигацией были организованы с большим вычетом времени за счет караульной службы и иных ненужных дел, за что заведующий учебной частью капитан 2 ранга Барков получил к своей фамилии от гардемарин приставку "седьмой" (по аналогии со своим литературным предшественником "хоть ты и седьмой, а дурак!"). На судах Сибирской флотилии, так же как и на Амурской, на башенных канонерских лодках, на которых мы проходили учебные артиллерийские стрельбы, судовой офицерский состав не отличался образцовой службой, т.к. в те времена на восток отправляли наименее выдающихся людей из Морского Корпуса. Однако, кто хотел, тот приобретал знания, несмотря на все недостатки организации учебного дела. В 1916 году мы после походов на Орле, плавали также на миноносцах и из Хабаровска на башенных канлодках ходили на артиллерийские стрельбы на Болонье озеро [11]. Отношения с ротным командиром лейтенантом Поздеевым окончательно испортились и в знак протеста мы сорвали во Владивостоке шлюпочные гонки, которые проходили в присутствии командующего Сибирской флотилии – мы сговорились, что во всех шести загонах (по 6 шлюпок в каждом загоне) шлюпки будут приходить к финишу по порядку присвоенных им номеров. Начальство сделало вид, что это не заметило. Но Поздеева по возвращении в Петроград убрали. За годы совместной учебы в ОГК я подружился с И.Исаковым, который был, правда, на 3 года меня старше, но по характеру мы подходили друг к другу и эта дружба не нарушилась, несмотря на тяжелые годы моего изгнания в 1926 – 1935. Хорошие отношения у меня были и с Ильиным Ф.Ф (Раскольниковым), который хотя был очень осторожен в разговорах на политические темы, но, видимо, мне в какой-то мере доверял, и вменил мне в "обязанность" каждый раз по возвращению из отпуска выкладывать все последние слухи и сплетни, исходившие из придворных сфер. Мне это было нетрудно, т.к. мой дядя, по должности начальник дворцовой электростанции, вращался в обществе близких ко двору – это был начальник дворцового управления и прочие. В этих кругах всегда циркулировали даже очень интимные сведения о высказываниях и делах царского двора. Кстати, жандармское управление потребовало от начальника ОГК исключения Ильина из ОГК, как политически неблагонадежного, но Фролов воспротивился и оставил его на свою ответственность, дав ему возможность закончить учебу. Недаром гардемарины дали Фролову прозвище "Папаша". Зима 1916/1917 года была полна волнующих слухов о катастрофических неудачах на фронтах, разрухе транспорта, недостатке продовольствия, выступлениях рабочего класса, репрессиях царского правительства. Все это уже совершенно открыто обсуждались гардемаринами. И недавно назначенный в нашу роту мичман Львов частенько собирал вокруг себя аудиторию жадно выслушивавших комментарии о политическом положении в стране, при чем из них становилось ясным, что недовольство в стране, в армии и флоте достигло такой степени, что революционный взрыв казался неизбежен. Сведения, которые я привозил из Царского Села, говорили о панических настроениях на верхах и бессилии царского режима найти выход из положения, который оно видело лишь в беспощадном подавлении революции. Среди гардемарин нашлись и такие, кто, проявляя в общем-то полную политическую неграмотность, пытались выступить в защиту режима, рисуя революцию как синоним хаоса, который приведет к гибели России. Наступили экзамены. Почти под самый конец пошли испытания на знание иностранных языков. Их принимал новый ротный командир лейтенант С. Я сделал заявку на английский и французский языки и сдал испытания вполне прилично, завоевав таким образом еще два дополнительных балла к диплому. Но при выпуске оказалось, что никаких дополнительных баллов у меня нет. Мое личное обращение к лейтенанту С имело ответом: "Сейчас я, конечно, не помню". А я-то помнил, как однажды вечером мне тало плохо и я попросился у дежурившего С. пойти в околоток [12] к фельдшеру. Он бросил "Нечего там делать". Я повернулся, хотя и чувствовал, что С. пойдет за мной, и пошел в лазарет, где фельдшер мне сразу дал лекарство. Выходя из лазарета, я натолкнулся на лейтенанта С., который с места отправил меня в карцер. Ночью в карцере мне стало хуже и дежурный вызвал фельдшера. Утром наш врач Б. сразу зашел ко мне, похвалил фельдшера за правильные мероприятия и доложил о случае начальнику из ОГК; тот прибыл в карцер, расспросил меня в чем дело и велел мне идти к себе в роту, а лейтенант С получил нагоняй, после которого он на меня смотреть не мог, видимо он считал, что сейчас представился удобный случай наказать меня. И вот в парадном зале Адмиралтейства начальник генштаба флота вице-адмирал Кедров [13] вручает нам аттестаты. Прибывший по этому случаю Милюков произносит речь, объявляя нас "Первым выпуском мичманов свободной России". Получили краткие отпуска и разъехались по домам, а часть новоиспеченных мичманов, которым далеко на поезде ехать, начали сборы к местам будущей службы. На церемонии нашего производства в мичманы, однако, не было Ильина. Он исчез и объявился уже под фамилией Раскольников в Кронштадте, где он решительно взялся за организацию матросских масс, перешагнув через эсеровские и меньшевистские лозунги Февральской революции. Я еду в Царское Село, в вагоне поезда толпа встревоженных пассажиров из ядра царскосельской аристократии. И вот дама – супруга известного путейского миллионера, жившего в Царском селе, завидя меня, громко обращается к собеседникам: "Вот этих несчастных юношей досрочно производят в офицеры, чтобы направлять их на корабли, где матросы перебили своих офицеров". Обозленный бестактностью этой дамы, я обращаюсь к ней: "Сударыня, эти слухи весьма преувеличены. Я, например, направляюсь на корабль, на котором матросы не тронули ни одного офицера." Дама неприязненно смотрит на меня и замолкает. Однако на душе у меня тоскливо, кроме всего прочего, эта дама – ведь мать первой красавицы Царского Села, прелестной 17-летней Китти П., в которую безнадежно были влюблены все юнцы городка, в том числе и я. После прощальной пирушки с друзьями, где основной темой разговора было будущее России, развитие революции и войны, провожаемый сестрами, я отправился в Петроград в Главный морской штаб чтобы получить направление Штаб Балтийского флота в Гельсингфорс [14]. В Петрограде мы узнали, что в Кронштадте убит ненавистный адмирал Вирен [15] и еще целый ряд офицеров, в том числе и контр-адмирал Бутаков [16]. Стало известно, что и в Гельсингфорсе также убито много офицеров. Вечером последнего дня в Петрограде едем на Финляндский вокзал, где уже ждут Исаков и Гаврилов и другие однокашники. В комфортабельном скором поезде отправляемся к месту службы. В штабе Балтийского флота на п/с Кречет меня направляют к начальнику распорядительно-строевой части штаба ст. лейтенанту Эльсперу. Порывшись в разных бумагах, он направляет каждого из нас на предназначенное ему судно. Исакову нужно отправляться в Ревель [17] на достраивающийся там э/м Изяслав. Мне следует отправиться на передовые позиции флота – а Рижский залив на л/к Цесаревич, приглашение на который я получил еще гардемарином. Три дня дали для ознакомления с Гельсингфорсом. Под предводительством капитана 2 ранга M. Обходим местные достопримечательности, а так же и знаменитые рестораны. Город красивый, оживленный и носит несколько интернациональный характер. Культура здесь шведско-финская. Флот живет своей жизнью. Неизвестным лицом убит комфлот Непенин [18]. Власть над флотом осуществляется совместно Центробалтом и Морским Генеральным штабом. Однако, наше дело садиться на Ермак, который, пробив покрывало Финского залива, доставит нас в Ревель, где я должен взять пополнение новобранцев и с ними отправиться в Гапсоль и Рогокюль, откуда ледокольный буксир доставит нас в Рижский залив на л/к Цесаревич, стоящий на якоре среди дрейфующих льдов против местечка Куйвасту на о.Моон [19]. Приняли меня вахтенный начальник и представитель судового комитета. Спросили, нет ли огнестрельного оружия. Его предложили сдать в артиллерийскую часть корабля. Представился старшему офицеру ст. лейтенанту барону Вреде, только недавно сменившему списанного с корабля старшего лейтенанта Ракинта. Команда потребовала его списания, т.к. он занимался рукоприкладством. Вместе с ним ушел и командир капитан 1 ранга Чеглоков, т.к. он не соглашался списать Ракинта: "Не я его назначал и не мне его списывать". Приветствовали меня мичманы Абрамович [20] и Буман, на год старше меня по выпуску из ОГК. После того, как я перезнакомился со всеми офицерами, старший офицер Вреде предложил мне за две недели изучить корабль и начертить планы всех палуб корабля. В помощь мне был дан главный боцман К., который был полон чувств собственного достоинства, смотрел на меня как на мальчишку, но прекрасно знал корабль, на котором служил уже 10 лет и очень мне помог быстро разобраться в лабиринтах переходов линкора. Взаимоотношения офицеров с командой были вполне нормальными, судовой комитет состоял из серьезных людей. Мне сразу по прибытию комитет дал задание срубить старое название Цесаревич и сделать чертеж и отливку букв для нового названия Гражданин. Я взялся ретиво за это дело и с помощью людей из минной команды задание было выполнено за три дня. Затем я был избран в культурно-просветительную комиссию, в составе которой я принимал участие в оформлении и редактировании журнала "Гражданин". Все же первые три недели пребывания на корабле показались мне довольно тягостными – дело в том, что приветливо встретившие меня офицеры нашей кают-компании в течение первых трех недель держали себя по отношению ко мне крайне сухо, если не сказать больше. По прошествии этих трех недель все как по команде стали проявлять самые дружеские чувства и внимание. Оказалось, что по старой традиции каждый новичок проходил вначале встречу "мордой об стол" – чтобы затем не зазнавался. Боевая деятельность первоначально ограничивалась отражением воздушных атак немецких самолетов-бомбардировщиков. Ходили на пробные армейские стрельбы. Но осенью со 2 по 11 октября, когда немцы собирались прорваться в Финский залив, для взятия Петрограда с тем чтобы "задушить революцию в колыбели", Гражданину пришлось выдержать бой с линкорами König и Kronprinz и другими судами немецкой эскадры. В этих боях мы потеряли нашего напарника л/к Слава. Немцы потеряли множество судов и были принуждены отказаться от попыток прорваться к Красной столице. Мы ушли из Рижского залива и были торжественно встречены линейным флотом – дредноутами стоявшими в готовности к бою у входа в Финский залив. Затем в Гельсингфорсе начались ремонтные работы по ликвидации повреждений, полученных в бою с немцами. В декабре я ушел на учебу. Весной 1918 года был назначен флаг-офицером на 1 бригаду линкоров, стоявшую в Кронштадте, а затем был переведен флаг-офицером в штаб флота. Приходилось мне бывать в командировках. Первый раз я был прикомандирован к г/с Рига, с которым ходил из Петрограда в Хельсинки для эвакуации наших красноармейцев, оказавшихся в плену у финской белой гвардии Маннергейма. Затем я был по рекомендации комиссара генштаба Ларисы Рейснер включен в морскую комиссию по заключению Брестского мира в качестве секретаря и переводчика. По окончании I фазы переговоров я вернулся в штаб Балтийского флота и ездил в Морской генеральный штаб, где были даны новые инструкции. Здесь со мной произошел следующий инцидент. Возвращался я с Кречета домой. У дверей дома, где я жил, еще существовал старик швейцар; он предупредил меня, что в квартире засада. Я вернулся на Кречет и изложил все совету комиссаров Балтфлота. Они вызвали начальника Морского Контроля (нечто похожее на особый отдел) Буша и при мне изложили положение вещей – что я вернулся после переговоров с немцами и в ближайшее время снова должен туда ехать, при этом предъявили мой заграничный паспорт за подписью зам. наркома. Буш сказал, что разберется. Какой-то его сотрудник отвел меня в Морской Контроль, который помещался в нескольких шагах от Кречета на Английской набережной. Здесь я провел ночь на столе, прикрытом шелковыми занавесками, тут же содранными с 4-х окон комнаты, где дежурили матросы. Утром, после длительного допроса, меня очень сытно накормили мясными консервами с гречневой кашей и напоили чаем, после чего я должен был собравшимся матросам и сотрудникам Морского Контроля рассказать мои встречи с немецкими матросами, поведавшими мне о положении на немецком флоте, который к тому времени уже стал выходить из повиновения, а в Киле покидал за борт неугодных офицеров. После этого меня отпустили, уверив, что засада с квартиры снята. Когда я наивно поднялся к себе и позвонил, мне открыл дверь человек в кожаной куртке и после довольно нервных переговоров сказал, что он не уполномочен выяснять этот вопрос по телефону, о чем я просил, и повел меня на Гороховую д.2., где какой-то старый бородатый еврей (комендант, наверно) забрал мой бумажник со всеми документами и отправил меня в комнату, которая являлась в прошлом, видимо, обычным жилым помещением из 3 или 4 комнат, сообщавшихся между собой. Здесь находилось человек 60. Я попал в камеру, где раздраженно скучали полковники генштаба, отказавшиеся служить в Красной Армии, бельгийский консул, вещи которого – чемодана 3, набитые консервами – были с ним, и еще две пары неизвестных лиц. Все были голодны как волки. Кроме меня, т.к. был накормлен до отвала в Морском Контроле. Бельгийский консул доставал время от времени какие-нибудь консервы и пожирал их, ни с кем не делясь. Ночью увели находившихся в других комнатах арестованных матросов – участников избиения комиссара Флеровского [21]. Их было около 40 человек. Наутро привели обратно одного ошибочно взятого. Это оказался матрос с Сибирского стрелка, которого я знал по плаванию на Орле в 1916 году (он ухаживал за корабельными животными – медведем и обезьянами). Я помнил его курчавым и красивым блондином. Теперь это был поседевший за ночь сломленный человек. Он рассказал мне, что всех арестованных привели в Петропавловскую крепость и там несколько раз пересчитывали. Оказалось, что он лишний и его в списках нет. И это его спасло! Утром вызвали выдворяемого из РСФСР бельгийца с его чемоданами. Днем меня вызвал председатель ПЧК [22] Яковлева – немолодых лет полуседая еврейка энергичного вида. Она расспросила меня об обстоятельствах ареста и затем сказала, что меня отпустят. Часа через три меня вызвали, и забрав документы я почти бегом понесся на Кречет. Через пару дней мы – председатель комиссии А.П.Зеленой [23], член Доливо-Добровольский и я – вновь отправились в Либаву. Когда мы прибыли в Либаву оказалось, что из числа остававшихся там 5-ти сотрудников бывший мичман Я. изменил родине и ушел к немцам или к белым, забрав пишущую машинку и сколько-то казенных денег. Немцы не дали нам встретиться с ним. Его обязанности были возложены на меня. По окончании переговоров, вся наша комиссия в сопровождении немецкого ротмистра отправилась из Либавы в Псков. Граница РСФСР и оккупированных областей проходила между Псковом и Торошино, где находился штаб войск Красной Армии под командованием Фабрициуса, с которым мы уже встречались при предыдущем переезде границы Торошино. На этот раз немцы решили, очевидно, получить какие-либо интересующие их сведения от нашей комиссии, воспользовавшись тем, что в Пскове находился штаб белогвардейских частей атамана Булак-Балоховича. По приезде в Псков нам объявили, что вертушка, ходившая из Пскова в Торошино, будет в Пскове только к вечеру, а поэтому нам предоставят номера в гостинице, внизу которой помещался ресторан, который был заполнен белогвардейскими офицерами, которые пьянствовали и беспрерывно требовали от оркестра исполнения царского гимна "Боже царя храни". Наша комната находилась как раз над рестораном и грохот музыки и рев пьяных не давали ни минуты покоя. Видимо специально для нас перед окнами гостиницы продефилировало бандитское войско Булак-Балоховича, который сам возглавлял свою банду, сидя в экипаже, запряженном тройкой рысаков. Немецкий ротмистр, состоявший при нас, куда-то исчез. Наш председатель Зеленой решил, что Доливо-Добровольский и четверо наших пойдут погулять в город, а мы будем ожидать прихода немецкого ротмистра. Через некоторое время к нам явился какой-то поручик, как оказалось, сотрудник контрразведки, который заявил Зеленому, что его приглашает к себе "командующий" т.е. Булак-Балохович, и что машина для поездки к нему подана. Зеленой заявил протест и отказался куда-либо ехать, но, идя, что время идет и немец не появляется и что все, видимо, подстроено, Зеленой, наконец, согласился и взял меня с собой. Машина привезла нас к дому начальника разведки, где заседал какой-то полковник в форме Генштаба, пытавшийся завязать с Александром Павловичем Зеленым разговор на интересующие его темы. Но старого адмирала было не просто обойти. После тщетных попыток узнать что-либо о Балтийском Флоте беседа оборвалась и нас на извозчике отвезли в гостиницу, где наши вернувшиеся с прогулки товарищи уже сидели по своим номерам под стражей беляков. Потом появился немецкий ротмистр со своими немецкими солдатами, которые убрали белых караульщиков и через некоторое время нас отвезли на вокзал, где нас уже ждал вагон самого немецкого пограничного коменданта. Через час мы уже сидели в Торошино у Фабрициуса, угостившего нас хорошим обедом и поздравлявшего нас с благополучным исходом инцидента во Пскове, обещав в скором будущем проучить атамана Балоховича. Когда мы возвратились в Москву для доклада, я получил предписание перевестись из Петрограда в Морской штаб. Прибыв в Петроград я узнал, что моя квартира занята, все мои вещи в том числе реликвии с Гражданина исчезли, и вообще дальше порога меня не пустили. Я временно переселился на Кречет, а затем был вызван в Москву, где некоторое время работал в Морской Инспекции, а затем был приглашен коморси [24] Немитцем А.В. [25] флаг-секретарем и в составе его походного штаба [26] принимал участие в военных действиях на Азовском море против флота Врангеля, в организации черноморского флота после ухода Врангеля в Крыму. А.В.Немитц был исключительно интересный человек. Свободное время, оказывавшееся во время многочисленных поездок по морским театрам, он рассказывал нам о крупнейших боевых операциях морских войн, которые он благодаря своей феноменальной памяти знал наизусть со всеми подробностями. Во время моей службы у А.В.Немитца пришло распоряжение о переводе Морского Штаба из Москвы в Петроград. Я был послан в Петроград для организации размещения коморси и его секретариата в здании Адмиралтейства. В один прекрасный день, кажется в начале июня, распространился слух, что обмундирование будут выдавать только тем, кто прошел перерегистрацию. Многие из работников штаба получили повестку явиться на регистрацию во 2-ой Балтийский Экипаж. Я такой повестки не получил, но кто-то из штабных сказал мне, что лучше пойти, а то с обмундированием дело не важно. В указанный день я пошел во 2-ой Балтийский Экипаж и удивился тому, что несмотря на то, что рабочий день шел к концу, никого не видно у выхода из казармы 2-ого Балтийского Экипажа. Когда я все же вошел и увидел набитый моряками зал, я понял, что здесь ловушка. Через некоторое время начали вызывать по фамилиям из одной половины зала в другую; кругом была стража… Это продолжалось довольно долго. Наконец списки кончились и нас осталось три человека. Одного из нас, старпома Петропавловска, отпустили, т.к. среди "комиссии" оказался матрос, вместе с ним служивший, а меня и второго, мне незнакомого военмора, после короткого совещания приписали к списку и мы оказались вместе со всеми. Прошло еще некоторое время. За находившимися в зале пианино, сел начальник расп. части штаба Р. и спел под пианино несколько песенок, заслужив аплодисменты аудитории. Наконец нас повели по улицам Петрограда на Московский вокзал, погрузили в арестантские вагоны и развели, кто в чем был, по разным тюрьмам, кого в Орёл, кого в Курск, а я попал в Харьков, где и просидел на голодном пайке, питаясь баландой и хлебом до октября; наша группа была наибольшей. Месяца через четыре стали всех выпускать партиями. К этому времени многие получили из дому вещи, благодаря содействию Московского отдела Штаморси. Не знаю почему, но я попал в группу, которую повезли сперва в Москву в Бутырскую тюрьму – может быть, из-за нерусских фамилий? В группе были подводник Коль, Тизенгаузен и еще человек семь. Через пару дней вызвали на допрос на Лубянку. Следователь с латышской фамилией спросил меня, где я родился, где учился и т.п. и не собирался ли уехать в Латвию!? Я сказал, что уже ездил в Латвию, но еще тогда, когда она была оккупирована немцами да и то в официальную командировку с дипломатическим паспортом. Больше меня не вызывали и вскоре через пару дней в камеру вошли дежурный и крикнул: "Бедлам с вещами!", после чего некоторые товарищи так и произносили мою фамилию. Я явился в Московский отдел Морского Штаба, где уже был новый главкомор Панцержанский Э.С., предложивший мне работу у него. Штаморси еще находился в Петрограде и через пару дней я отправился из Москвы в Ленинград в Штаморси. Случаю было угодно, что я попал в купе, в котором ехал туда же и Сладков [27], т.е. один из главных организаторов бессмысленной эпопеи, названной "фильтрацией". Сладков в это время уже был снят с должности комиссара Морских сил и вообще имел вид жалкий. Увидев меня он сразу стал оправдываться, что он бы никогда не допустил бы такого издевательства над людьми, что вся эта затея пошла от Зиновьева и т.д. Я сказал только, что правда всегда в конце концов всплывает и разговор наш на том оборвался. Вскоре Штаморси был возвращен в Москву и размещен в Замоскворечье. С Эдуардом Самуиловичем Панцержанским я проработал с 1922 г до весны 1924 года в должности состоящего для особых поручений и младшего флагмана для поручений. Участвовал я во всех инспекционных поездках и на маневрах в Черноморском флоте и Балтийском Море. Моя дружба с М.С.Исаковым, который плавал командиром на э/м Петровский в Черном море, привела к тому, что весной 1924 года я попросил Помглавкомора [28] Панцержанского отпустить меня на Черное море, т.к. мне нужно поддержать свой плавательный стаж, ибо уже 6 лет в штабе. Э.С. как будто обиделся, но довольно едко сказал, что он никого не удерживает насильно. Так в 1924 г. я отбыл в Севастополь. Я мечтал попасть помощником командира к Исакову И.С., который блестяще управлял судном, но штаб назначил меня на э/м Незаможный, а затем на крейсер Коминтерн, для поддерживания дисциплины, пострадавшей в период рассвета клешников. В 1925 году я, наконец, попал к Исакову на Петровский. В это время Панцержанский был переведен с должности Помглавкомора в Черное море на должность наморси – мы снова встретились, но уже отношения стали уже не те. В 1925 году в конце года я был назначен флагманским штурманом дивизиона подводных лодок [29]. Здесь я проработал до мая 1926 года, когда разразилась новая беда над нами. На Балтике и на Черном море было арестовано около 20 командиров и начальников соединений и после 8-ми месячного следствия коллегия ОГПУ присудила всем от 3 до 10 лет лагеря особого назначения. Я получил 10 лет по статье 58, пунктам 4 и 10. 4-ый пункт означал: "Помощь международной буржуазии" и 10-ый – агитацию против Советской власти. "Помощь международной буржуазии" состояла видимо в том, что я не раз получал от штаба предписания встречать и сопровождать приезжавших к нам иностранных представителей, после чего подробно отчитывался обо всем, так например я встречал в Севастополе итальянского морского атташе кап II ранга Миралья, встречал приходивший с официальным визитом в Одессу шведский крейсер Fylgia, с приветственной речью встречал группу представителей немецких левых социал-демократов, с которыми ходили на погружение на подводной лодке, демонстрируя успехи молодого революционного флота [30]. Была у меня в 1924 году встреча с секретарем польской миссии Чеховичем, окончившим в свое время ОГК и сбежавшим потом в панскую Польшу. Об этой встрече я кстати подробно докладывал комиссару морских сил Зофу [31], высказав свои подозрения о его деятельности в нашей стране. Где же здесь место подозрениям? Что касается п.10 обвинения "Агитация против Советской власти", то вообще при допросах такие обвинения и не упоминались. В Севастополе после ареста нашей группы, в командах судов были проведен митинг, где сообщалось, что мы хотели якобы увести суда Черноморского Флота в Румынию! Видимо хотели использовать наличие исторического примера с восставшим броненосцем Потемкин, ушедшим с революционными матросами в Констанцу. Были заготовлены гневные резолюции, клеймившие нас позором. Кстати один из участников митинга, клеймивший нас, вскоре сам приехал в Соловецкий лагерь на 5 лет и рассказывал нам об этом под общий смех всех нас "опозоренных". Я не могу поверить тому, что кто-либо из мало-мальски серьезных матросов поверил такому бреду. Когда нас из Севастополя привезли во внутреннюю тюрьму на Лубянке, там дежурным комендантом работал бывший матрос Головкин. Каждую субботу он заходил в камеру, опрашивая претензии. Конечно, претензия всегда была одна – побриться; через некоторое время аккуратно приходил стрелок и вел на верхний этаж, где по всем правилам, с применением одеколона, парикмахер брил и подстригал нас, сидевших там моряков. Когда осенью 1926 года меня перевели в общую камеру, куда перед тем уже был переведен мой бывший начальник дивизона С.И.Чириков, стало легче. Через день к нам определили "начальника штаба" из банды атамана Анненкова – Денисова [32]. Это был бывший штабс-капитан белой армии, произведенный Анненковым в "генерал-майоры". Стараясь всячески умалить свою роль головореза в банде Анненкова, он доходил до курьезов; притом был он сер и необразован. Без конца мучил он нас вопросом, будут ли считаться с его "добровольным" возвращением в СССР. Рассказы его о жизни в Китае после интернирования банд Анненкова в Синьцзянской провинции Китая были потрясающими по своей безнравственности свидетельствами о разложении, царившем в среде белых. Позже его вместе с Анненковым отправили в … [33], где состоялся суд над обоими [34].
Этим же рейсом на Соловки отправлялся начальник Воздухлиний УСЛАГ Ковалев, которого я знал раньше – он был из мичманов, окончивших затем летную школу. Были у него в свое время неприятности в авиачасти, т.к. нрава он был партизанского. Он служил в Онежской флотилии и отличился в боях с белофиннами под командовавшим т.Панцержанского. Я дважды выручал его из беды. Дело в том, что он катал при случае на самолете свои симпатии, вызывая, конечно, возмущение комиссара части. И я дважды устраивал ему перевод на новое место службы. Мои услуги он не забыл, и когда, увидел меня на Неве в числе заключенных, тотчас же подошел ко мне и стал успокаивать, что он все, что может, устроит. Слово свое он сдержал. После общих работ я вскоре стал десятником строительства театра, а затем смотрителем Соловецкого маяка. Соловецкий маяк был в ведении <неразборчиво> Север, начальником, которого был бывший капитан буксира, обслуживавшего наш л/к Гражданин. Я тогда познакомился с ним и у нас установились самые лучшие отношения. Потом мы встречались и он щедро исполнял мои заявки.
На 1 этаже собора обычно сидели штрафники на узких скамейках вдоль стен так называемых "жердочках", без права разговаривать друг с другом и вставать с места без разрешения стрелка, следившего за "порядком". Теперь, к приезду Горького штрафников отправили в лес, скамейки убрали, поставили столы, на которых лежали книги, главным образом произведения Горького, а человек пять, избранных з/к, сидели у стола, держа в руках книги. Горький посмотрел на чтецов и задал им несколько вопросов. Вскоре новый начальник Секирной решил, что помещение начальника маяка нужно отдать стрелкам охраны, а меня можно переселить вместе со всей обслугой маяка в одну комнату. Получив такое распоряжение я позвонил начальнику 1 отделения и сообщил о распоряжении, предупредив, что сигнализацией маяка управляют из помещения начальника маяка. Начальник Секирной получил сразу же приказ оставить все по-старому. Зато меня он посадил сразу же на 2-е суток в карцер для штрафников. На этом возможности этого начальника в отношении меня кончились, т.к. я был переведен начальником Воздухотрасс в 1-ое отделение, где проработал до конца своего пребывания на Соловках, если не считать перерыва в несколько дней, когда я был неожиданно снят и послан на общие работы, но потом восстановлен на этой же должности. В карцере все же еще раз 3 суток сидел с исполнением служебных обязанностей, т.к. отказался выполнить распоряжение заместителя начальника 1-го отделения, не согласованное с начальником Воздухлиний Ковалевым, но касавшееся имущества Воздухотрасс. Очень тяжелым был 1931 год, когда на острове разразилась эпидемия сыпного тифа. Число заключенных было весьма велико и вновь прибывших заключенных помещали в только что отстроенных конюшнях кавалерийского дивизиона охраны. В одном стойле ютилось человек по 8. Были стойла "летчиков", "химиков" и т.д. Уцелели немногие. Сыпняк косил людей! По прибытии на остров Соловки мы узнали, что бывший дежурный комендант внутренней тюрьмы Головкин переведен помощником начальника 1-го отделения Соловецкого лагеря и все мы совершенно искренне приветствовали это обстоятельство и не ошиблись! За все время нашего пребывания на острове, все мы – моряки чувствовали, что он очевидно понимал всю бессмысленность нашего заточения, по мере возможности облегчая положение тех, кого считал несправедливо "обиженными и оскорбленными". Трагических событий было много, но два из них потрясли нас всех: вскоре после смерти Дзержинского, бывший тогда начальником Соловецкого лагеря Эйхманс [37], приказал привести из Кремля – т.е. 1-го отделения лагеря целый ряд заключенных, которые работали в различных более или менее привилегированных местах, на отдаленную лесную командировку, на так называемые общие работы, там был какой-то бывший генштабист, какой-то еще довольно молодой работник из министерства иностранных дел, какие-то бывшие военные. В какое-то время они получили приказание перетащить лодки, которые использовались при сплаве леса на внутренних каналах острова, к морскому берегу Соловецкого острова, где они якобы сейчас нужны. Перетаскивать лодки нужно было волоком через лес. И вот когда эта группа заключенных была занята этим делом – они вдруг обнаружили, что их окружают выходящие из леса стрелки охраны во главе с Эйхмансом, раздались выстрелы, обезумевшие люди бросались в разные стороны, но никто не ушел. Потом Эйхманс заявил одному из вольнонаемных работников, что "теперь я отомстил за смерть своего учителя товарища Дзержинского!" Уж наверно не этому учил его товарищ Дзержинский! Когда я еще работал на Соловецком маяке на горе Секирной, произошло еще одно трагическое событие. Внезапно была арестована группа з/к, в том числе заведующий метеослужбы в 1-м отделении острова, бывший военный летчик, потерявший ногу во время войны в 1915 году, уже немолодой, бывший морской офицер, молодой бывший военный летчик, бывший командир крейсера из нашей группы севастопольских моряков и ряд других лиц. Всех их обвинили в том, что они якобы захотели захватить пароход Соловецкого лагеря СЛОН и бежать на нем с острова, подняв восстание. Следствие длилось долго (месяца 3). И вот однажды ночью этих заключенных стали выводить по одиночке на кладбище, помещавшееся рядом со зданием женского корпуса и расстреливать у вырытых там ям. В женском корпусе начались массовые истерики и крики. Молодого бывшего летчика, бившегося в истерике, волокли на расстрел, а он кричал: "Я ни в чем не виноват!", слышавшие этот крик женщины бились в истерике. Осталось в живых из этой группы человека 2-3. Чувство ужаса воцарилось на острове…
Публикация и комментарии Andrew Heninen |
 |
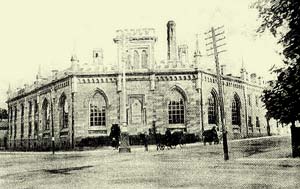 Дед, Андрей Бекман, заведовал казенным лесничеством на границе Курляндии и Ковельской губернии. Отец Андрей Андреевич Бекман после окончания военной службы в качестве вольноопределяющегося в Балтийском флоте пришел на службу в Добровольный флот [
Дед, Андрей Бекман, заведовал казенным лесничеством на границе Курляндии и Ковельской губернии. Отец Андрей Андреевич Бекман после окончания военной службы в качестве вольноопределяющегося в Балтийском флоте пришел на службу в Добровольный флот [ В 1910 году мы возвратились на жительство в Царское Село. Вначале я продолжал учение в Петербурге, но в 1911 году перешел в Царскосельскую гимназию [
В 1910 году мы возвратились на жительство в Царское Село. Вначале я продолжал учение в Петербурге, но в 1911 году перешел в Царскосельскую гимназию [